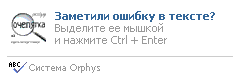Хусаин Фаизханов и развитие исторической лингвистики
 |
В статье рассматривается деятельность Хусаина Фаизханова и результаты его работы в сферах, соприкасающихся с языкознанием. Дана попытка на основе доступных источниковых материалов и косвенных сведений охарактеризовать степень владения Х. Фаизхановым различными языками, что было продемонстировано им как в образовательной, так и в исследовательской деятельности. В статье обращено внимание на факторы, которые оказали влияние на формирование лингвистических навыков Х. Фаизханова. Спектр языков, которыми владел и с которыми по меньшей мере работал Х. Фаизханов, широк. Если часть языков он мог освоить в силу своего происхождения и профиля обучения (тюркские, арабский, персидский), то другими овладевал самостоятельно до того уровня, чтобы функционально использовать их для конкретных задач (русский, чувашский). Х. Фаизханов показал себя одинаково на высоком уровне как теоретик языкознания, о чем ярко свидетельствует собственно разработанное учебное пособие по татарскому языку, как филолог, что отразилось в работе с письменными памятниками, и как лингвист, что следует из его способности сделать важные в плане исторической лингвистики методические выводы по интерпретации части волжско-булгарских эпитафий на основе привлечения сведений чувашского языка.
Введение
Настоящая статья продолжает цикл работ, посвященных отмечаемому в текущем году
Ниже мы подробно рассмотрим некоторые аспекты научной деятельности Х. Фаизханова, непосредственно или косвенно связанные с языкознанием.
Хусаин Фаизханов и русский язык
По свидетельству Ризы Фахретдина
Х. Фаизханов неоднократно подчеркивал значение изучения русского языка как средства для ознакомления с достижениями науки и культуры. Это отразилось в том числе и в его идее в связи с разработкой проекта реформы мусульманского образования внедрить изучение русского языка в учебную программу мусульманских учебных заведений. В его программной работе посвящен значительный раздел «Рисаля» («Послание») обоснованию практического значения овладения русским языком [10, с.
Хусаин Фаизханов и языки письменных
источников
Блистательное владение Х. Фаизханова кроме родного татарского еще арабским и персидскими языками признавалось всеми коллегами (ср. выше цитату А. К. Казембека). В. В. Вельяминовым-Зерновым, соратником и коллегой Х. Фаизханова, он характеризовался как «один из лучших знатоков татарского языка» [14, с. 491]. Между тем, под «татарским» следует понимать не просто родной разговорный язык Х. Фаизханова, но также и письменно-литературный — поволжский тюрки?[2], отличавшийся от локального устного определенным универсализмом и служившим своего рода надрегиональным койне[3]. Работавший в Казанском университете известный тюрколог Н. Ф. Катанов
«Подражание иноземным писателям преимущественно араб.[ским] и персидским, заключается не только в заимствовании сюжета сочинения и манеры писания, но и в заимствовании чужих слов, и даже в намеренном исковеркывании своих слов на иноземный лад, что особенно заметно у Волжских татар. Значительными заимствованиями чужих слов славится более всего турецко-османский книжный язык, который турки-простолюдины понимают мало или не понимают совсем. Татары Волжского бассейна пишут свои сочинения на родном языке, но с значительною примесью турецкого и джагатайского элементов, потому что в глазах этих татар языки турецкий и джагатайский считаются образцовыми, как у турков араб.[ский] и персид.[ский] языки. У татар Волжского бассейна даже глаголы, наречия и союзы заменяются турецкими и джагатайскими, так что книга, написанная на таком искусственном языке не может быть приписана строго ни одному известному народу» [20, с. 10].
К этой пространной характеристике следует добавить такое замечание еще одного тюрколога, специалиста по письменным языкам Средней Азии, Г. Ф. Благовой
«Известно, например, что письменная фиксация сама по себе способствует отграничению книжно-письменного языка от других форм существования языка. Особенно это относится к письменности на арабском алфавите. Так, в чагатайском, в текстах, писанных арабским алфавитом, обозначались преимущественно согласные, а их огласовка была условной: ею передавались далеко не все качества гласных, благодаря чему арабское написание предоставляло большую свободу читателю в озвучивании текста; к тому же очень часто огласовка могла вовсе отсутствовать. В результате носители различных тюркских языков и диалектов получали возможность читать один и тот же текст каждый на свой лад, окказионально варьируя его фонетическую аранжировку» [15, с.
Естественно, при таком характере этого письменного языка овладевший им получал бы широкий доступ к таким же письменно-литературным в своей природе староосманскому и чагатайскому. Поэтому не должно удивлять, что в последующем Х. Фаизханов мог не только преподавать татарский и «турецкий» (то есть староосманский), но также работать с текстами на них, а также на крымско-татарском, чагатайском, казахском и др. тюркских языках.
Когда В. В. Вельяминов-Зернов подготовил к печати «чагатайско-турецкий» (то есть, по сути, чагатайский, см. выше) словарь, во вводной части он написал:
«Я предполагал взять в корректоры бывшего лектора С. Петербургского Университета Муллу Хусейна Феиз-ханова, основательно знакомого с Татарскими наречиями. В нем я надеялся найти не только корректора, но и деятельного помощника. Но не успел я приняться за работу, как к несчастью Мулла Хусейн скончался. Заменить его было решительно некем» [21, с.
Эта сентенция, начертанная в контексте извинительных выражений автора перед читателем за возможные упущения в проделанной работе, демонстрирует не только признание авторитета Х. Фаизханова в языковедческих вопросах, подчеркивая его уровень, но и совершенно ясно свидетельствует о дефиците компетентных кадров в среде российского востоковедения того времени.
Расшифровка волжско-булгарских эпитафий
Не только основательная подготовка, но и языковое чутье позволило Х. Фаизханову сделать важнейшее открытие, ставшее этапным для истории тюркологии. Речь идет об идентификации типа языка волжско-булгарских эпитафий, давшей ключ к их верной расшифровке и открывшей перспективы для дальнейшего развития этого направления в тюркологии.
По итогам полевых работ
Сегодня мы знаем, что волжско-булгарские эпитафии классифицируются на две группы с точки зрения языковой (или диалектной) принадлежности. Одна из них сохраняет черты, присущие поволжскому варианту чагатайского языка или тюрки? (см. выше), другая включает как раз те памятники, чей язык можно охарактеризовать как принадлежащий к так называемой булгарской группе (или ветви) тюркских языков[4]. Язык этой группы волжско-булгарских эпитафий характеризует, видимо, язык населения Волжской Булгарии и, опять же, одной из групп ее населения. При этом чувашский, хоть и родственный ему, отнюдь не является его прямым потомком, а относится, скорее, к языку какой-то периферийной группы булгароговорящего населения, и тем не менее остается единственным живым языком булгарской группы [19, с. 460].
Конечно, при том уровне накопления материала, которым характеризовалась наука в середине XIX в., ни Х. Фаизханов, ни кто-либо иной знать этого не могли. Однако Х. Фаизханов, обнаружив общие характеристики в прочитанных им эпитафиях с языком чувашей, которые и в его время не являлись мусульманами, предложил перспективную интерпретацию, что предки чувашей были финно-уграми (по терминологии того времени «финнами»), которые тюркизировались, будучи покорены тюрками-мусульманами и войдя в политическую зависимость от них, при этом те финно-угры, которые приняли ислам и тюркизировались больше, — это булгары, а те, кто не принял ислам и тюркизировались меньше (это отразилось только в заимствовании лексики), — чуваши и марийцы (см. Письма Х. Фаизханова Ш. Марджани от 27 декабря 1863 г. и в апреле (?) 1864 г.) [12, с.
Само открытие Х. Фаизханова, связанное с идентификацией языка эпитафий, поддержал и на широком материале развил Н. И. Ильминский
Н. И. Ильминский же, которого уже как лингвиста интересовал сам язык, в упомянутой статье высказал несколько мыслей о возможностях исторического развития чувашского языка: допуская мысль об изначально финно-угорской основе чувашского языка, переходное состояние от которого к общетюркскому отражал язык булгарских эпитафий, он не отрицал также и возможности его принадлежности к особой ветви тюркских языков [22, с. 84]. В целом же вопрос он оставил открытым. Н. И. Ашмарин
Нас не будет интересовать развитие истории исследований волжско-булгарского и чувашского языков, нам важнее указать на то, что вопросы, над которыми даже не в научных публикациях, а в переписке с Ш. Марджани размышлял Х. Фаизханов, были решены учеными только в начале XX в. [26, с.
В данной работе мы обходим обсуждением и такую одиозную проблему, как борьба за «булгарское наследство», в своей природе исходно искусственную, то есть надуманную, и имеющую скорее социальное, чем научное значение. Тем не менее нельзя не упомянуть таких прискорбных для научных диспутов явлений, как эксплуатация происхождения ученого. Например, чувашскими исследователями в дискуссиях с татарскими коллегами по поводу определения места языка волжско-булгарских эпитафий в истории тюркских языков не без плохо скрываемого ехидства и явного смакования специально подчеркивается татарское происхождение Х. Фаизханова [27, с. 256], [28, с. 11], открывшего близость их языка к чувашскому, что как будто должно послужить для оппонентов поучительным примером и мотивом для пересмотра интерпретаций. Так и среди некоторых одиозных татарских авторов, искателей «глубоких корней» и «великих предков» своего народа, можно встретить попытки вовсе поставить под сомнение результаты открытия Х. Фаизханова, усомнившись в его компетентности (!)[5]. Первое явление, конечно, следует целиком отнести к сфере этики ведения научных дискуссий, второе, не имеющее никаких реальных оснований, тоже остается на совести авторов.
Х. Фаизханов, признанный специалист по языкам, в самую последнюю очередь мог руководствоваться какими-либо тенденциозными идеями, даже просто потому, что работал с плохо разработанным материалом, двигаясь фактически наощупь. Безусловно, его больше интересовала история татарского народа, и даже если этот интерес был непосредственно (и вполне естественно) связан с собственной этнокультурной средой, то решение исторических проблем осуществлялось исключительно в рамках научной методики, средствами, которые позволял уровень науки того времени.
Хусаин Фаизханов и казахско-русский
словарь
Летом 1860 г. Х. Фаизханов был снаряжен Императорским Археологическим обществом Академии наук в официальную командировку для изучения надписей на надгробных камнях в Касимове, необходимых для готовящейся работы В. В. Вельяминова-Зернова по Касимовскому ханству [10, c.
Официальные сведения об официальном поручении Х. Фаизханову подготавливать словарь имеются только с 1862 г. Именно весной этого года руководство Санкт-Петербургского университета, следуя указаниям врача, поспособствовало поездке Х. Фаизханова на юг для профилактики здоровья, поэтому оформило ему официальную командировку как раз с целью сбора материала для словаря. Это решение поддержала и Академия наук, снабдившая Х. Фаизханова своим заданием [Там же, с.
Переписка с Ч. Валихановым показывает, что Х. Фаизханов мог не просто работать с письменным и устным материалом, но и разбирался в диалектных различиях казахского языка, к обнаружению которых для себя смог прийти практическим способом:
«Ильминский в Казани издал небольшой словарь по казахскому языку, вполне хороший. Однако слов немного, наберется ли около полутора тысяч. Есть еще [что следует сказать]: значение некоторых слов отличается от языка казахов Внутренней Орды. Отсюда ясно, что в казахском языке между различными областями его распространения также имеются отличия. Так как Ильминский хорошо знает казахский язык, то он не должен был допустить ошибок» (Письмо Х. Фаизханова Ч. Ч. Валиханову от 8 апреля 1863 г) [Там же, с. 275].
В продолжение этого письма Х. Фаизханов обращает внимание на специфику языка населения Среднего жуза, верно отмечая параллели между местным казахским и ногайским языками: «И еще, жители Внутренней Орды при содействии хана Джихангира стали ногайцами (отатаризовались). Когда они разговаривают с подобными нам ногайцами (татарами), то стараются говорить по-ногайски (по-татарски). А потому Внутренняя Орда не подходит для сбора материала для словаря казахского языка» [Там же]. От устного казахского языка в записях Ч. Валиханова смог Х. Фаизханом отличить и кыргызский язык [10, с. 276].
Словарь до нашего времени не дошел и, как говорилось выше, есть основания полагать, что материалы, добытые Х. Фаизхановым интегрировал в свой словарь Л. З. Будагов. По крайней мере, сохранились свидетельства в виде слов самого Л. З. Будагова, относящихся к январю 1864 г., что он был в курсе подготовки работы Х. Фаизханова и мог получать от него какие-то материалы:
«Для киргизского наречия я пользовался материалами г. Ильминского, пометив их в словаре, с немногими исправлениями, доставленными мне муллой Хусейном Фейз-Хановым. Хотя господин декан нашего факультета словесно и разрешил мне воспользоваться материалами, собранными и самим муллой Хусейном, но я не мог пока это сделать, потому что они не приведены еще, как он говорил, в порядок» [30, л. 4].
Вряд ли из этих слов можно будет сделать заключение, что Х. Фаизханов не предоставил коллеге свои материалы по какой-то иной причине: слишком сильно современниками Х. Фаизханова подчеркивается его бескорыстие и верность служению науке (см. отзывы В. В. Вельяминова-Зернова, А. К. Казембека [14, с. 491, 493]).
Как уже говорилось, сам словарь, который готовил Х. Фаизханов ни в каком виде до нашего времени не обнаружен. Мы знаем только об оценке этой работы Х. Фаизханова, близившейся к завершению, но прерванной его смертью. Оценка была самой высокой: «приобретение весьма важное не только для учебной, но и для ученой литературы», по словам А. К. Казембека, на тот момент декана Факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета.
Грамматика татарского языка
Преподавая на Факультете восточных языков, Х. Фаизханов обобщил этот опыт и зимой
«Последние пару месяцев я занимался составлением учебника по морфологии и синтаксису нашего тюркского языка на русском языке для студентов. Полагаю, через неделю или десять дней я его завершу» [12, с. 147, 149].
Неизвестно, уложился ли Х. Фаизханов в поставленные себе же сроки, но 17 марта 1865 г. он уже может написать Ш. Марджани:
«В университете также есть дела. Написал книгу о морфологии и синтаксисе нашего языка. Каждый раз, перечитывая, нахожу нужным что-то исправить, добавить или удалить. Все это тоже занимает мое время. Это мое собственное оригинальное сочинение, я ни за кем не следовал, никому не подражал, даже не смотрел ничьи другие книги. Наши ученики хвалят» [Там же, с. 152, 157].
Отсюда следует, что по крайней мере в рукописи работа использовалась Х. Фаизхановым в ходе преподавательской деятельности. К сожалению, работа тоже недоступна науке.
В письме Ш. Марджани земляку и одному из учеников Х. Фаизханова, Калимулле Аминову, от 9 декабря 1866 г., где среди прочего изложена просьба прислать ему в Казань оставшиеся книги и рукописи из личной библиотеки покойного, говорится, что среди них «должны быть также морфология и синтаксис, сочиненные им на татарском языке» [10, с. 319]. Пока нельзя ничего сказать насчет того, смог ли Калимулла ответить на эту просьбу и вообще выслать хоть какие-нибудь рукописи Х. Фаизханова. Выдвигалось предположение, что в каком-то виде материалы для данной грамматики использовал Абд ал-Аллам Фаизханов
Современные оценки компетентных специалистов касательно грамматик Хусаина и Абд ал-Аллама Фаизхановых высказаны в недавней статье, специально посвященной этой теме [32] (ср.: [27, с.
Самостоятельное значение имеют приложенные к работе Х. Фаизханова в качестве хрестоматии тексты рассказа «Калила и Димна» арабского писателя Ибн ал-Мукаффа (ум. между 756 и 760 гг.) в собственном переводе с арабского языка на татарский, грамоты крымского хана Джанибек-Гирея (XVII в.) на крымскотатарском языке, отрывок из «Маджалис ан-нафаис» Алишера Навои
Нельзя не отметить, что и само осуществление перевода такого значительного памятника, как «Калила и Димна», является знаковым событием в истории татарского литературного языка. Полный перевод памятника на татарский язык издал в последующем А. Фаизханов (тремя отдельными книгами в 1889 и 1891 гг.) [33]. Вслед за М. А. Усмановым мы должны оставить вопрос о степени самостоятельности этой работы специальным исследованиям.
Заключение
Обобщая все факты проявления деятельности Х. Фаизханова в сферах, соприкасающихся с языкознанием, можно сделать ряд значимых наблюдений, которые корректируют некоторые бытующие представления.
Во-первых, Х. Фаизханов многим обязан своей подготовке, которую он получил в ходе обретения в мусульманских (религиозных по характеру) учебных заведениях от своих наставников. Именно в этот период жизни он освоил арабский, персидский и, очевидно, письменный литературный тюрки?, обрел навыки работы с текстами и почерками.
Во-вторых, при рассуждениях о способности Х. Фаизханова читать тексты на разных тюркских языках важно учитывать именно общее единство письменно-литературных языков, будь то варианты тюрки? или староосманский, отличавшиеся от языков устного общения.
В-третьих, немаловажным был тот совершенно не верифицируемый с точки зрения возможностей гуманитарных наук факт, который заключается в собственных способностях Х. Фаизханова к освоению языков. Очевидно, не только эрудиция, но и природное чутье позволяли ему самостоятельно освоить русский язык на уровне выше разговорного и использовать его не только как инструмент общения и получения информации, но даже переводить с него и на него научные тексты и преподавать его грамматику; точно так же объясняется и способность определять и выявлять диалектные различия в языках, с которыми он работал, и эти же знания применять при написании собственной учебной грамматики; о том же свидетельствует и способность выявить параллели с общетюркской ветвью языков в чувашском, фонетика и морфология которого достаточно своеобразно эволюционировали, или тюркизмы в марийском языке, при том что ни тот, ни другой он специально не изучал.
В-четвертых, в Х. Фаизханове сочетались и филолог, который использует владение языком как инструмент для исследования различных аспектов истории и культуры, и лингвист, который непосредственно предметно изучает сам язык. Х. Фаизханов глубоко осваивал не только грамматику и синтаксис языков, с которыми имел необходимость работать, но и фонетику, будучи способен уловить фонетические соответствия или на уровне развития лингвистики своего времени уловить взаимосвязь между теми или иными фонетическими явлениями и процессами.
Мухетдинов Дамир Ваисович
доктор теологии, ректор, профессор
Журнал «Филология и культура»
[1] Следует заметить, что из контекста письма на самом деле не ясно, идет ли речь о русском или арабском языке.
[2] О неустойчивости терминологии лингвистической классификации и ее развитии в русскоязычной традиции см.: [15, с.
[3] Подробно о такой характеристике см. работу Э. Р. Тенишева [16], где, однако, чагатайский и тюрки? рассматриваются как отдельные литературные языки, существовавшие на разных исторических этапах, хотя генетически связанные. Иной взгляд см.: [17], [18]. Именовать в данном случае язык, на котором собственно писал Х. Фаизханов, «старотатарским» или нет, мы этот вопрос не обсуждаем.
[4] В разных классификациях она еще именуется булгаро-чувашской, огурской, группой r-языков или ?aZ-языков, что не меняет общей сути и совсем не принципиально для нашей темы.
[5] Так пишет, например, М. З. Закиев (сам специалист по синтаксису татарского языка): «Хусейн Фейзханов, по происхождению сергачский мишар, не знал особенностей среднего диалекта татарского языка...», и дальше в тексте идут спекулятивные псевдолингвистические рассуждения о том, как можно (и как будто следовало!) прочесть интерпретированные Х. Фаизхановым тексты, если иметь знания о специфике некоторых татарских диалектов [29, с. 9]. Учитывая общую характеристику работ М. З. Закиева, вряд ли этот довод можно считать серьезным, но выбор такого рода нападок на предшественников в качестве метода аргументации должен считаться исключительно предосудительным.